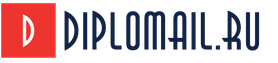Произведение городок в табакерке читать. Сказка городок в табакерке владимир одоевский читать
Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», - сказал он.
Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то!
Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, - и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.
Что это за городок? - спросил Миша.
Это городок Динь-Динь, - отвечал папенька и тронул пружинку…
И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям - не из другой ли комнаты? и к часам - не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…
Право, мой друг, там и без тебя тесно.
Да кто же там живёт?
Кто там живёт? Там живут колокольчики.
С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки и валик, и колёса… Миша удивился:
Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? - спрашивал Миша у папеньки.
А папенька отвечал:
Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается.
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?
Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
«Да отчего же, - подумал Миша, - папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».
Извольте, с величайшею радостью!
С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
Позвольте узнать, - сказал Миша, - с кем я имею честь говорить?
Динь-динь-динь, - отвечал незнакомец, - я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.
Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды - чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
Я вам очень благодарен за ваше приглашение, - сказал ему Миша, - но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, - там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
Динь-динь-динь! - отвечал мальчик. - Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.
Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.
Отчего это? - спросил он своего проводника.
Динь-динь-динь! - отвечал проводник, смеясь.
Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь - большое.
Да, это правда, - отвечал Миша, - я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.
Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь рисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:
Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?
Уж у нас поговорка такая, - отвечал мальчик-колокольчик.
Поговорка? - заметил Миша. - А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.
Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова.
Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.
Нет, теперь уж меня не обманут, - сказал Миша. - Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинаковые.
А вот и неправда, - отвечал провожатый, - колокольчики не одинаковые.
Если бы все были одинаковые, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.
Миша, в свою очередь, закусил язычок.
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
Весело вы живёте, - сказал им Миша, - век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.
Динь-динь-динь! - закричали колокольчики. - Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку?
Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы - ни шагу, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкой.
Да, - отвечал Миша, - вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься - всё не мило. Я долго не понимал; отчего это, а теперь понимаю.
Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
Какие же дядьки? - спросил Миша.
Дядьки-молоточки, - отвечали колокольчики, - уж какие злые! То и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «Тук-тук-тук! Тук-тук-тук, поднимай! Задевай! Тук-тук-тук!». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук. Мише даже их жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
Какой это у вас надзиратель? - спросил Миша у колокольчиков.
А это господин Валик, - зазвенели они, - предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.
Миша - к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:
Шуры-муры! Кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры! Кто прочь не идёт? Кто мне спать не даёт? Шуры-муры! Шуры-муры!
Это я, - храбро отвечал Миша, - я - Миша…
А что тебе надобно? - спросил надзиратель.
Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…
А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…
Ну, многому же я научился в этом городке! - сказал про себя Миша. - Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает…
Между тем Миша пошёл далее - и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает.
Миша этому очень удивился и сказал ей:
Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
Зиц-зиц-зиц, - отвечала царевна. - Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.
Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком - и что же?
В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.
Что во сне видел, Миша? - спросил папенька.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? - спрашивал Миша. - Так это был сон?
Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере, что тебе приснилось!
Да видите, папенька, - сказал Миша, протирая глазки, - мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… - Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
Ну, теперь вижу, - сказал папенька, - что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.
Папенька поставил на стол табакерку.
Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка, - сказал он.
Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.
 - Что это за городок? - спросил Миша.
- Что это за городок? - спросил Миша.
Это городок Динь-динь, - отвечал папенька и тронул пружинку… И что же? вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять; он ходил и к дверям, - не из другой ли комнаты? И к часам - не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец, Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось, и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городе стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
Папенька! папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
Мудрено, мой друг. Этот городок тебе не по росту.
Ничего, папенька, я такой маленький. Только пустите меня туда, мне так бы хотелось узнать, что там делается…
Право, мой друг, там и без тебя тесно.
Да кто же там живёт?
Кто там живёт? Там живут колокольчики.
С сими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса. Миша удивился.
Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? - спрашивал Миша у папеньки.
А папенька отвечал:
Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается.
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал: отчего звенят колокольчики.
Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
Да отчего же, подумал Миша, папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди; видите, зовут меня в гости.
Извольте, с величайшей радостью.
С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
Позвольте узнать, - сказал Миша, - с кем я имею честь говорить?
Динь, динь, динь, - отвечал незнакомец. - Я - мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь, динь, динь, динь, динь, динь.
 Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды, чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды, чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
Я вам очень благодарен за ваше приглашение, - сказал ему Миша, - но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды; там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите…
Динь, динь, динь, - отвечал мальчик, - пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мною.
Миша послушался. В самом деле, с каждым шагом, казалось, своды поднимались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.
Отчего это? - спросил он своего проводника.
Динь, динь, динь, - отвечал проводник смеясь, - издали всегда так кажется; видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели: вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь - большое.
Да, это правда, - отвечал Миша, - я до сих пор не подумал об этом и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька, на другом конце комнаты, читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать! Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит; а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что маменька правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке: очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.
Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил.
Динь, динь, динь, как смешно! Динь, динь, динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь, динь, динь, динь, динь!
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:
Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите: динь, динь, динь!
Уж у нас поговорка такая, - отвечал мальчик-колокольчик.
Поговорка? - заметил Миша. - А вот папенька говорит, что нехорошо привыкать к поговоркам.
Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.
Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его - оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимется. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.
 - Нет, теперь уж меня не обмануть, - сказал Миша, - это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.
- Нет, теперь уж меня не обмануть, - сказал Миша, - это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.
Ан вот и неправда, - отвечал провожатый, - колокольчики не одинакие. Если бы мы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один, как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим? Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще; неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает и можно от него кое-чему научиться.
Миша в свою очередь закусил язычок.
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
Весело вы живёте, - сказал Миша, - век бы с вами остался; целый день вы ничего не делаете; у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.
Динь, динь, динь! - закричали колокольчики. - Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку. Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно! Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья, но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке с музыкой.
 - Да, - отвечал Миша, - вы говорите правду. Это и со мною случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься - всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.
- Да, - отвечал Миша, - вы говорите правду. Это и со мною случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься - всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.
Да сверх того на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
Какие же дядьки? - спросил Миша.
Дядьки-молоточки, - отвечали колокольчики, - уж какие злые! То и дело, что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже тук-тук бывает, а уж маленьким куда больно достается.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шипели между собою: тук, тук, тук! тук, тук, тук! Поднимай, задевай. Тук, тук, тук! Тук, тук, тук!
И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил: зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков?
А молоточки ему в ответ:
Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук, тук, тук! Тук, тук, тук!
 - Какой это у вас надзиратель? - спросил Миша у колокольчиков.
- Какой это у вас надзиратель? - спросил Миша у колокольчиков.
А это господин Валик, - зазвенели они, - предобрый человек - день и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться.
Миша к надзирателю. Смотрит, - он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо, только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом опустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:
Шуры-муры! Кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идёт? Кто мне спать не даёт? Шуры-муры! Шуры-муры!
Это я, - храбро отвечал Миша, - я - Миша…
А что тебе надобно? - спросил надзиратель.
Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…
А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу… Шуры-муры, шуры-муры…
Ну, многому же я научился в этом городке! - сказал про себя Миша. - Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает! «Экой злой, - думаю я. - Ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.
Между тем Миша пошёл далее - и остановился. Смотрит - золотой шатёр с жемчужной бахромой, наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:
Сударыня-царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
Зиц, зиц, зиц, - отвечала царевна, - глупый ты мальчик, неразумный мальчик! На всё смотришь - ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, кабы за молоточки не цеплялся, молоточки бы не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц, зиц, зиц!
 Мише хотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком - и что же? В одно мгновенье пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и… проснулся.
Мише хотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком - и что же? В одно мгновенье пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и… проснулся.
Что во сне видел, Миша? - спросил папенька.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка? - спрашивал Миша. - Так это был сон?
Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи-ка нам по крайней мере, что тебе приснилось?
Да, видите, папенька, - сказал Миша, протирая глазки, - мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал-думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверца в табакерке растворилась… - Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
Ну, теперь вижу, - сказал папенька, - что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.
Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», - сказал он.
Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то!
Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, - и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.
Что это за городок? - спросил Миша.
Это городок Динь-Динь, - отвечал папенька и тронул пружинку…
И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям - не из другой ли комнаты? и к часам - не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…
Право, мой друг, там и без тебя тесно.
Да кто же там живёт?
Кто там живёт? Там живут колокольчики.
С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки и валик, и колёса… Миша удивился:
Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? - спрашивал Миша у папеньки.
А папенька отвечал:
Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается.
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?
Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
«Да отчего же, - подумал Миша, - папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».
Извольте, с величайшею радостью!
С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
Позвольте узнать, - сказал Миша, - с кем я имею честь говорить?
Динь-динь-динь, - отвечал незнакомец, - я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.
Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды - чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
Я вам очень благодарен за ваше приглашение, - сказал ему Миша, - но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, - там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
Динь-динь-динь! - отвечал мальчик. - Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.
Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.
Отчего это? - спросил он своего проводника.
Динь-динь-динь! - отвечал проводник, смеясь.
Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь - большое.
Да, это правда, - отвечал Миша, - я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.
Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь рисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:
Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?
Уж у нас поговорка такая, - отвечал мальчик-колокольчик.
Поговорка? - заметил Миша. - А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.
Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова.
Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.
Нет, теперь уж меня не обманут, - сказал Миша. - Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинаковые.
А вот и неправда, - отвечал провожатый, - колокольчики не одинаковые.
Если бы все были одинаковые, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.
Миша, в свою очередь, закусил язычок.
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
Весело вы живёте, - сказал им Миша, - век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.
Динь-динь-динь! - закричали колокольчики. - Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку?
Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы - ни шагу, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкой.
Да, - отвечал Миша, - вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься - всё не мило. Я долго не понимал; отчего это, а теперь понимаю.
Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
Какие же дядьки? - спросил Миша.
Дядьки-молоточки, - отвечали колокольчики, - уж какие злые! То и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «Тук-тук-тук! Тук-тук-тук, поднимай! Задевай! Тук-тук-тук!». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук. Мише даже их жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
Какой это у вас надзиратель? - спросил Миша у колокольчиков.
А это господин Валик, - зазвенели они, - предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.
Миша - к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:
Шуры-муры! Кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры! Кто прочь не идёт? Кто мне спать не даёт? Шуры-муры! Шуры-муры!
Это я, - храбро отвечал Миша, - я - Миша…
А что тебе надобно? - спросил надзиратель.
Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…
А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…
Ну, многому же я научился в этом городке! - сказал про себя Миша. - Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает…
Между тем Миша пошёл далее - и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает.
Миша этому очень удивился и сказал ей:
Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
Зиц-зиц-зиц, - отвечала царевна. - Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.
Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком - и что же?
В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.
Что во сне видел, Миша? - спросил папенька.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? - спрашивал Миша. - Так это был сон?
Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере, что тебе приснилось!
Да видите, папенька, - сказал Миша, протирая глазки, - мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… - Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
Ну, теперь вижу, - сказал папенька, - что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.
Мы его отлупили − в кровь. Но легче от этого всё равно не стало. Спроси меня: за что? Я, пожалуй, и ответить не смогу толком. Знаю одно − били мы его за дело.
Деревня наша называется Светлый Бор. Другой такой деревни по красоте нет, наверное. Речка Тихоня вся блестит, будто это и не речка вовсе, а солнечный луч. Потом леса. Слышали по радио, как играет орган? Словно ветер запутался между стволов, рвётся вверх на простор, а сосны держат его и гудят басовито. Людям кажется, будто они всё знают про лес, а начни говорить, и выходит, нет таких слов, которые объяснят красоту леса.
Дороги в нашей деревне мягкие. Ноги грузнут по щиколотку в горячей пыли. Пыль не такая, как в городе, не летучая. Она как вода. Гуси дорогу переходят, будто плывут. Воздух у нас ароматный, густой. Старики говорят, что из нашего воздуха можно пиво варить.
Алфред, наверно, не понимал такой красоты. Задень она его хоть легонько, всё получилось бы по-другому. Алфред, наверно, никогда не видел, как цветут яблони. Словно тысячи розовых птиц опустились на ветки и колдуют там, шевеля крыльями.
У нас в деревне много садов. Развёл их старый дед Улан. Когда-то давно он служил в кавалерии. С тех пор у него осталась кличка Улан и шрам на виске. Годы его уже на вторую сотню перевалили. Никто не знает толком, сколько ему лет: то ли сто восемь, то ли сто десять.
На ребят у деда плохая память. Сколько их выросло на его веку − разве упомнишь! Улан нас по-своему различает. Если чёрные пятки, косматая голова, волосы цвета старой соломы, если мальчишка суёт свой нос во все деревенские дела, − значит, Васька. Если мальчишка причёсанный, в скрипучих сандалиях, на голове тюбетейка, чтобы солнцем в темя не ударило; если мальчишкины глаза смотрят на деревню с презрением и скукой, − значит, Алфред.
Всегда получается так. В начале лета Алфредов полно − приезжают из города. Ходят особняком, словно туристы с другой планеты. Под осень все городские до того пообвыкнут, такими станут Васьками − смотреть приятно. А тот, про которого я хочу рассказать, как приехал Алфредом, так и остался Алфредом. Наверно, и в городе он Алфред. Лупят его там тоже. И правильно делают.
Но не могу я начать рассказ прямо с него, не заслуживает он такого почёта.
Лучше я расскажу сначала про наших ребят, про Стёпку, про Гурьку.
Стёпка наш, деревенский. Гурька каждое лето приезжает из Ленинграда. Сбросит свой городские ланцы − так у нас в деревне называют одежду − и ходит в одних узеньких трусиках. Старухи ему пальцами грозят, называют босяком-голоштанником. А он говорит:
− Отстали по старости лет. Нужно, чтобы кожу за лето продуло ветром насквозь, солнцем прожарило, тогда всю зиму будет тепло.
Зато Стёпка даже в самый жаркий день не снимает брюк: боится потерять солидность и уважение.
Он немножко сутулый, словно несёт на плечах что-то тяжёлое.
Гурька весёлый; всё у него просто. Что думает, то сразу и говорит.
Есть у нас ещё один человек − Любка. Мне про неё говорить трудно. Я в девчонках неважно разбираюсь, они непонятные. А эта и вовсе.
Иногда совсем на мальчишку похожа. Бегает в трусах да в майке. На прополке за ней не поспеть. Сено возить − Любка воз кладёт. На возу самое трудное. И корову доить Любка умела не хуже взрослой. Ругалась так, что даже мальчишки краснели. А иногда вроде что-то найдёт на неё. Напялит на себя материну кофту жёлтую, обмотает шею бусами из рябины, цветов в волосы натычет. Будь на дороге сто луж, она возле каждой остановится, посмотрит на своё отражение.
Мы ей говорим:
− Ну что ты в лужу глаза таращишь?
Она отвечает:
− Как я выгляжу на фоне неба?
Потом отвернётся от нас и вздохнёт. Может быть, она нас немножко презирала. У девчонок такое бывает. К тому же видом своим мы не очень отличались. Голоса хриплые. А разговоры…
Любка смотрит на нас, бывало, смотрит, потом головой помотает и скажет с укором:
− Глупые вы, как телята.
− А ты умная, почём горшки? − скажет ей Гурька.
Стёпка − тот промолчит. Только один раз он с Любкой поссорился. Это ещё до Алфреда было.
Мы что делали: купались целыми днями, ходили в лес за малиной, по грибы. На сенокосе помогали, на огородах. По вечерам крали яблоки. Дед Улан вывел много сортов: скрыжапель, бельфлёр, золотая кандиль, розмарин. У нас для яблок свой названия: белый Фрол, розмария, золотое кадило. Что касается скрыжапели, мне наше название и писать неловко.
Кражу яблок мы не считали воровством. Крали во всех садах, кроме, конечно, колхозного, − там сторож с собакой. И ещё мы не трогали яблок в саду у деда Улана. Это до нас было заведено.
Помню, сидели мы на брёвнах, яблоки грызли, − до того наелись, что язык во рту будто ошпаренный.
Стёпка сказал:
− Эх, засадить бы всю землю фруктами, чтобы каждая кочка цвела! Была бы тогда земля весёлая, вроде клумбы.
Он размахнулся, кинул яблоко в телеграфный столб. Яблоко разлетелось от удара в разные стороны, как граната.
− Правильно, − сказал Гурька. − Это при коммунизме так будет… − И тоже бросил яблоко в столб и добавил с удивлением: − Лет через двадцать так будет. Везде техника и сплошные сады. Вот, чёрт, красотища будет, а?
Любка встала тогда и засмеялась. Ковыряет мягкую землю ногой и смеётся, только не весело.
− Быстрее бы в нашей деревне клуб построили. Дороги асфальтовые. По вечерам электрические вывески, как северное сияние. Я читала, в будущем вместо деревень построят агрогорода…
− Тебя туда жить не пустят, − сказал кто-то.
Любка посмотрела на нас и сказала грустно:
− Ну и пусть. Вот мне уж как с вами надоело… Я лётчицей буду. Лёха, это возможно?
Она у меня спросила. Меня Лёхой зовут.
Я промолчал, только пожал плечами. Непонятная эта Любка.
Гурька ответил:
− Лети, − говорит, − по ветру. Вон гусиные перья в траве. Вставь их вместо хвоста, чтобы рулить можно было.
Мальчишки захохотали, девчонки некоторые тоже засмеялись.
Мы со Стёпкой лучше других знали, как тяжело Любке живётся. Любкины мать и отец между собой не ладили: скандалили каждый день. Мать отца ухватом из избы вытурит, а он идёт с досады в продмаг или в чайную. Потом станет под окнами своей избы и выкрикивает всякую брань. Их и в правление вызывали, штраф накладывали.
Стёпка сказал:
− Хватит ржать.
Он взял у Любки последнее яблоко, хотел его в столб бросить и не бросил. Возле столба стоял дед Улан. Он шевелил битые яблоки палкой, тряс бородой. Потом опустился на колени, стал выковыривать из яблок семечки. Крикнул нам:
− Идите подсобляйте… Ишь сердца у человека нет, сколько фруктов порушили. Жигануть бы ему в кресло-то из берданки.
Мы молчим, помогаем старику семечки выковыривать. Он немного успокоился, посветлел. Говорит:
− Мы их в землю посадим. Под солнышком они как раз поспеют к тому сроку, когда у вас ребятишки народятся.
Девчонки все, как одна, краснеют. Мальчишки отворачиваются.
− Вот у вас, − дед показал на Стёпку и Любку, − может, сынок будет, Васька. Вы ему яблочко сладкое. Нет на земле фрукта радостнее, чем яблоко.
Любка вскочила, мотнула косами.
− Чтобы я за такого лохматого замуж вышла? Он ведь и слова хорошего сказать не может.
Дед посмотрел на неё, усмехнулся в бороду и пошёл. Дед с вересовой палкой ходит − медленно, словно прислушивается к чему-то. Станет на лугу и глядит на цветы, на травы, на солнечные блюдца под деревьями. Он как наш лес: то хмурый, то улыбнётся вдруг. И всё сам по себе.
Дед Улан ушёл. Стёпка подождал, пока все успокоятся, и сказал негромко:
− А ты?! − вскочила Любка. − Ты сам первый такой. И Гурька такой. И Лёха… И все вы.
Ребята загалдели.
Глаза у Любки сузились, как у кошки.
У Стёпки глаза тоже щёлками стали. Губы в комок.
− Замолчите все! − крикнул он. − И ты, Любка!
− А что ты командуешь?! Что вы его слушаете, лохматого! Ты на дворняжку похож!
Стёпка сощурился ещё больше. Мы все подумали, вот он сейчас Любке затрещину отвалит. А Стёпка вдруг усмехнулся и сказал:
− Ладно, пусть не слушают. Пусть на дворняжку похож… Я теперь, как узнаю, кто по садам шастает, самолично расправляться буду. Все поняли? Имейте в виду.
Гурька тоже сказал:
− Я хоть и не здешний, у меня своего сада нет, но я со Стёпкой согласен. А на Любку эту я чихать хочу…
Мы все порешили − хватит: сады не для озорства посажены. Тем более, что яблоки во всех садах одинаковые − дед Улан разводил.
Любка от нас откачнулась. Станет в сторонке, смотрит, как танцуют под гармонь взрослые девчата и парни. Нас будто и нет в деревне.
Я всё это рассказал, чтобы обрисовать наших ребят. Теперь начинаю про Алфреда.
Приехал он к нам летом. Оказался нашей колхозницы родной внук. Удивительно…
В тот день, когда мы с ним познакомились, нас искусали на речке береговые осы. Стёпку − в губы и в глаз. У Гурьки оба уха отвисли, как отмороженные, и щека надулась. Меня хуже всех − в язык. Они свои волдыри землёй потёрли. От земли боль утихает. А язык землёй не потрёшь.
Возле деревни нас нагнал трактор «Беларусь». За рулём сидел Гурькин дядя.
− Что это вас скривило? − спросил он, сдерживая смех.
− Осы, что, − ответил Гурька.
− Хотите, солидолом намажу? − предложил Гурькин дядя.
И тут за нашими спинами кто-то сказал с усмешкой:
− Нужно диметилфтолатом мазаться, тогда не укусят.
Мы обернулись.
У канавы стояла Любка и с нею незнакомый мальчишка в голубой рубашке, в трусиках с ремешком.
− Ишь ты, − сказал Гурькин дядя. − Всё знаешь. − Он включил сцепление и попылил к деревне.
А незнакомый мальчишка смеётся:
− Шутник этот тракторист.
− Это не тракторист, а главный инженер, − сказал Гурька.
− Хорошо, − сказал мальчишка. − Я же с вами не спорю.
Стёпка смотрит на них и вдруг ни с того ни с сего берёт мальчишку за ворот.
− Слушай ты, Алфред. А если я тебе фотографию помну для знакомства?
Мальчишка покосился на Любку и сказал храбро:
− Не посмеешь. Я французский бокс знаю.
Он выставил перед собой кулаки и заскакал на цыпочках. Мы с Гурькой ничего не понимаем. Что происходит? Почему Стёпка на этого Алфреда жмёт?
− Потанцуй, потанцуй, Алфред. У меня время есть. Люблю танцы глядеть, − сказал Стёпка сквозь зубы. − Ну-ка, ещё какую-нибудь фигуру покажи.
Мальчишка перестал прыгать, но кулаками возле подбородка водит. Стёпка обошёл его кругом. Поинтересовался:
− Что, во французском по уху нельзя?
− Нельзя.
− Ну, так я по-русски… − Стёпка замахнулся.
И тут Любка стала между ними.
− Не смей бить человека, − сказала она. − Отрастил кулачищи.
Тут и Гурька в разговор вступил.
− Ха, − сказал он. − Ты, Любка, задаёшься очень. Не понимаю, почему тебе Стёпка по ушам не надаёт. Я бы на его месте не Алфреда, а тебя в первую очередь отхлестал.
− Руки коротки, − сказала Любка. Она повела плечом. − Дикари вы. Культуры у вас никакой. И у тебя, Гурька, хоть ты из Ленинграда.
Она кивнула Алфреду: мол, пойдём, нечего с ними связываться. А мы ещё долго стояли у поскотины, у загородки из жердей, которой деревню обносят, чтобы скотина ночью не вырвалась, не потравила посевы.
Стёпка шевелил бровью над распухшим глазом. Укушенный, он казался похожим на Чингисхана.
Гурька спросил:
− Чего ты на этого типа полез?
− Не знаю… Не понравилась мне его рожа…
Но, если правду сказать, Алфред был красивый. Я знаю, с лица не воду пить. И всё-таки хорошо быть красивым. Даже моя родная мать и та говорит мне иногда: «Ужас, на кого ты похож. Посмотри на себя в зеркало. Боже мой, наказание такое!..»
Зачем мне смотреть в зеркало? Пусть Любка на себя в зеркало любуется, она красивая. Я знаю − я похож на отца и горжусь. Мой отец был на фронте. Четыре раза ранен. Шесть орденов у него. А сейчас он председатель нашего колхоза. Хоть и некрасивый.
Под вечер мы снова увидели Любку и Алфреда. Они играли в футбол.
Любка стояла в старых разломанных воротах. Раньше в эти ворота въезжали телеги, потому что за ними была кузница. Теперь кузница новая, в другом месте, кирпичная. А здесь, вокруг закопчённого сруба с просевшей крышей, растёт крапива − лохматая, злая собачья трава. Говорят, если из крапивы сделать носки да надеть их на себя, можно вылечиться от ревматизма. Только никто такие носки не вяжет.
Мы, конечно, остановились, любопытства ради. Может, Алфред в футбол играть горазд.
Приготавливался он к удару, как мастер спорта. Положил на мяч камушек для прицела. Разбежался. Бац!.. Ловко, прямо под штангу. Он для этого ботинки надел.
Любка прыг, ноги врозь, и сидит на земле. А мячик далеко за её спиной, в крапиве:
Алфред смеётся:
− Пропустила, иди за мячом.
Любка полезла в крапиву. Посмотрели мы − у неё все ноги и руки в больших красных пупырях. Вся обожжённая.
Стёпка молчит. У Гурьки лицо тоскливое.
− Пошли, раз Любке нравится в крапиву лазать, пусть лазает.
Стёпка стоит, только зубы сильнее стиснул.
Я подошёл к Алфреду.
− Ты зачем над Любкой издеваешься? Нашёл себе партнёра играть в футбол. Она девчонка.
− Никто над нею не издевается, − ухмыльнулся Алфред. − И не футбол это вовсе, а новая игра «Сам виноват». Пропустил мяч − полезай в крапиву. Если она возьмёт, я в ворота стану. Мне в крапиву лезть придётся. Всё по-честному.
Алфред разбежался − бац!
Поймала Любка мячик. Прижала к груди и показывает нам язык, словно мы виноваты, что она крапивой ожглась.
Алфред в воротах растопырился. Любка поставила мяч, закусила косы зубами, разбежалась да как подденет мяч большим пальцем и тут же села.
Мяч просвистел у Алфреда над головой, заскочил в самую густую крапиву.
Стёпка с Гурькой заулыбались. Я тоже стою − рот до ушей.
− Полезай, Алфред. Сам такую дурацкую игру придумал.
Любка посмотрела на нас исподлобья и закричала вдруг:
− Чего вам-то?! Чего вы здесь стали? Уходите!
Она поднялась с земли и поскакала на одной ноге к Алфреду. Морщится, − видно, очень ушибла палец при ударе.
Алфред её остановил. Сказал:
− Не горячись, Люба, − и пошёл за мячом.
Идёт посвистывает, будто и не крапива его по ногам скребёт, а, к примеру, ландыш. Взял мяч, подбросил его. Поймал там же, в крапиве.
Мы ему смотрим на ноги − ни одного волдыря. А Любка смеётся. Шевелит ушибленным пальцем и смеётся:
− Ну что, выкусили? Ха-ха-ха…
Потом мы Алфреда одного встретили у канавы. Алфред сидел, мыл ноги. Проведёт носовым платком по ноге − сразу пена.
− У него они мылом намазанные, − догадался Гурька.
Стёпка сразу − к Алфреду. Спрашивает:
− Ты перед игрой намылил ноги?
− А как же, − смеётся Алфред. − Что я, дурак − об крапиву шпариться?
− А Любка дура?
− Конечно, дура… Хотя и от неё польза есть: без дураков скучно.
Стёпка промолчал, потом спросил спокойно, даже с любопытством:
− Скажи, Алфред, что ты кушаешь?
− Странный вопрос. Тебе зачем знать?
Стёпка усмехнулся.
Алфред вскочил, опять поднёс кулаки к подбородку, а сам мечет глазами направо, налево − смотрит, как удобнее убежать.
− Трое на одного?.. Посмейте только.
Стёпка оглядел его с ног до головы, поморщился.
У меня чесались кулаки, словно не Любка, а я сам доставал мяч из крапивы. И почему я тогда не вступил с Алфредом в драку? Вы думаете, я его французского бокса испугался? Нет.
На следующий день я их опять вместе увидел. Я просто так ходил, прогуливался. Подошёл к Любкиному дому и увидел. Через дорогу от них малина росла. Кусты молодые, ягод на них ещё нет, зато высокие, скрывают с головой.
Любка рубила хряпу для поросят. Хряпа − это зелёные капустные листья. Рубят их сечкой в деревянном корыте. Потом намешают туда отрубей, хлебных корок, остатки каши, зальют тёплой водицей − и готова поросячья еда.
Сечка в Любкиных руках − как игла в швейной машинке, не уследишь. Строчит вверх, вниз. Идёт из одного края корыта к другому. Любка ловкая.
Алфред стоит рядом, наблюдает. Потом вытер руки.
− Давай я.
− Испачкаешься, − ответила Любка. − Чего уж тебе нашим делом мараться.
− Наплевать, если испачкаюсь. Я сейчас тебе покажу, как нужно рубить.
Любка протянула ему сечку.
− На, − говорит, − Шурик, руби.
Оказывается, Алфреда Шуриком зовут. Ишь ты, думаю, Шурик. Ишь ты, думаю, какая Любка стала вежливая. Раньше она всё лето босиком бегала, как все. Пятки чёрные, с трещинами. Только в косах у неё всегда были яркие ленты. А сейчас на ней туфли с пуговками. Правда, ленты в волосах те же. Не придумали ещё лент ярче Любкиных.
Алфред подошёл к корыту, поднял ногу на край, чтоб оно не колыхалось. Размахнулся тяпкой − бац! Тяпка воткнулась в деревянное дно − ни туда ни сюда.
− Ты не так сильно, − подсказала Любка. − Давай я покажу, как надо. Ты силу не применяй.
− Это пробный удар, − проворчал Алфред.
Я стою за кустом, и досада у меня и злость. Не умеешь − спроси. Люди научат.
Алфред поднял сечку да как застрекочет быстро-быстро и всё по одному месту.
− Ты сечку веди, − говорит Любка.
− Не учи, сам знаю.
Алфред размахнулся опять и − тяп по своей ноге. Даже мне за кустом стало не по себе, будто я его нарочно под локоть толкнул.
Алфред сразу на землю сел. Уцепился за ногу, стучит зубами.
− Ой, ой-ой-ой!.. − Потом схватил тяпку да как швырнёт её в сторону.
Любка стоит неподвижно, только ресницы вздрагивают. А с Любкиных ресниц на Любкин нос сыплются крупные слёзы. Она всегда боялась крови. Когда я весной руку об колючую проволоку рассадил, Любка ревела. Даже не подошла ко мне руку платком перевязать. У неё от крови кружится голова. Пришлось мне тогда платок зубами затягивать. Ну, думаю, кажется, пришла пора вылезать из кустов. Алфред не Алфред, а помощь оказать нужно. Может быть, у него сильное кровотечение. И вдруг Любка опустилась на колени, бормочет:
− Снимай сандаль, Шурик…
Алфред зубами стучит. Между пальцами бежит кровь.
Любка зажмурилась, сняла с его ноги сандалию и носок. Залепила ранку подорожником. Побежала в дом, принесла ковшик воды, бутылочку липок и чистую холщовую тряпку.
Липки у нас в деревне в каждой избе есть. Наберут бабушки ранней весной берёзовых почек, настоят на водке − вот и всё снадобье. Липками его называют потому, что почки по весне прилипают к рукам. Лист оттуда едва свой зелёный гребешок показал, а запаху от него полна улица.
Любка промыла водой Алфредову ногу, плеснула из бутылочки прямо на ранку.
Алфред завыл − липки почище йода дерут.
− Тише, тише, это сейчас пройдёт, − успокаивает его Любка, а сама бинтует ногу тряпицей.
Алфред встал, попрыгал на одной ноге. Любка ему подала сандалию. На сандалии ремешок разрублен. Я думаю, если бы не этот ремешок, не скакал бы Алфред. Ремешок ему ногу спас.
Алфред схватил сандалию, швырнул прочь.
− Что ты мне её даёшь? Куда она теперь годна? Из-за тебя такую сандалию испортил.
Любка снова подняла Алфредову сандалию. Говорит:
− Её очень просто починить. Только ремешок зашить, − а сама чуть не плачет.
− Ну и зашивай! − крикнул Алфред. − Всё равно она уже не новая будет, а зашитая.
Если бы на Любкином месте был я, я бы Алфреду этой сандалией по башке. А Любка стоит, опустила голову, как виноватая. И так мне стало обидно, что вылез я из малинника и ушёл. Чтобы не идти по улице мимо проклятого Алфреда, я пролез в сад. Пошёл прямо садом.
Яблоки на ветвях висят. Я к ним без внимания. Кислые ещё. Прямо скажу, не смотрел на яблоки даже. И напрасно меня дядя Николай, Любкин отец, за уши отодрал, − не рвал я его яблок.
Несколько дней мы не встречали ни Алфреда, ни Любки, потому что занялись делом.
Колхоз отдал нам старенький трактор «Беларусь» и старую кузницу. Мы её вычистили, подлатали крышу. Крапиву во дворе скосили. Земля пахла древесным углем и железом. Хорошо. Зелёная трава, синее небо, чёрная кузница и красный трактор на высоких колёсах. Красиво.
Первая работа была такая: мы возили навоз со скотного двора к парникам. Нагрузили две платформы и тянем. Эту работу Стёпка сам попросил у председателя. Нам он сказал:
− Кто не хочет, − значит, не хочет. В сельском хозяйстве нет работ чистых и грязных.
Никто не отказался. Подумаешь, навоз. Сходим на речку, вымоемся с мылом.
Настала моя очередь вести трактор.
Едем по улице. Я впереди на тракторе. Остальные своим ходом, горланят песни, шумят. Я смотрю − Любка стоит на краю дороги в туфельках, в носочках. Одна, без Алфреда. Я сразу отвернулся, будто не замечаю её. Сам думаю: смотри, как я на тракторе еду. А Любка приложила руку к губам и крикнула:
− Эй ты, Лёха, жук навозный, чего нос задрал?!
Я будто не слышу.
− Чего же ты, Любка, к нам не идёшь? − спросил Стёпка. − Мы, видишь, трактор получили. Видишь, работаем.
− Ну и работайте. От работы кони дохнут… − Любка тряхнула головой, ленты у неё в косах вспыхнули начищенной оранжевой медью. Любка зажала нос пальцами: − Фу… Фу… Дышать нельзя. Нашли себе наконец занятие. В самый раз, по культуре.
− Ишь какая благородная! − загалдели ребята. − Будто у неё коровы нет.
Стёпка их остановил, говорит спокойно, даже как будто просит:
− Нам после этой работы другую дадут. Хочешь трактор посмотреть?
− А какое мне дело? − ответила Любка. − Работа дураков любит.
Любка опустила голову, сказала тихо:
− Вы и без меня справитесь. Вон вас сколько. Я вам и не нужна, поди-ка…
Стёпка у неё тоже тихо спросил:
− Что это с тобой приключилось, Любка?
− Да ничего с ней не приключилось! Влюбилась в своего Алфреда! − выкрикнул Гурька и засмеялся.
Я поднялся с сиденья, чтобы лучше видеть. Мне очень хотелось, чтобы Любка полезла в драку. Она это может. А она отвернулась и побежала в проулок.
− Влюбилась! − заорали ребята. − Алфредова невеста!
Я тоже закричал. Только Стёпка не произнёс ни слова. Подошёл ко мне, ткнул меня кулаком в ногу.
− Чего надрываешься? Трогай.
Потом мы возили жерди к реке. Там строили загон для свиней и обносили его жердями. Потом мы возили песок, солому − всё, что нам было под силу.
Яблоки в садах зрели. Зрела наша ненависть к Алфреду. Почему мы его так ненавидели? Я и сейчас ещё толком не понимаю. Кажется, лично нам он не делал никаких гадостей.
Он купался целыми днями, разъезжал с Любкой на велосипеде, валялся в гамаке, удил рыбу. Когда мы приходили на речку смыть свой рабочий пот и пыль, он удалялся, насвистывая, причём на нас даже не глядел. А однажды, когда Степан наступил на его рубаху, сказал даже:
− Извините, я хочу взять рубашку.
В другой раз, когда Гурька, нырнув, привязал его леску к коряге, он просто отрезал её ножом и ушёл улыбаясь.
Любка, завидев нас, переходила на другую сторону улицы или сворачивала в проулок. Может быть, так вот и лето прошло бы, но случилась одна история.
Рано утром мы все лежали у кузницы, возле своего трактора, ждали, когда придёт из колхозного правления Стёпка, принесёт наряд на работу. Утреннее солнце клонило в сон. Оно будто водит перышком по щекам. Я заметил: если лежишь на солнце ничего не делая, всегда хочется подремать.
Вдруг все ребята подняли головы. К кузнице шёл дед Улан. Одной рукой он опирался на свою вересовую палку, а другой тащил здоровенный яблоневый сук. Он тащил сук с трудом. Коленки у него тряслись, голова вздрагивала.
Дед обвёл нас взглядом, словно выискивал кого-то.
− Турки вы, − сказал дед. − Турки… алфреды.
К кузнице подошёл Стёпка. Он увидел яблоневый сук у деда в руках и сразу понял, в чём дело.
− Дед, это не мы, − сказал он.
Улан отпихнул его палкой.
− Отойди… Турки вы, − бормотал он. − Пустое вы семя. Полова…
Дед заплакал. Старый уже был человек. Даже отлупить нас у него не было силы. Мы бы не сопротивлялись, пусть лупит. А он повернулся и пошёл прочь. Старается идти быстро. Ноги его не слушаются, только трясутся пуще, а шага не прибавляют.
− Кто? − спросил Стёпка.
Ребята молчат. Стёпка ещё раз спросил:
− Кто?.. − Потом начал допытывать поимённо.
Гурька рассердился, закричал:
− Ты что за прокурор? Говорят, не лазали, − значит, не лазали. Кто к Улану полезет?
− Никто, − согласился Стёпка. − Не было ещё, чтобы к Улану в сад лазали.
И тут Гурька догадался:
− Алфред!
− Алфред! − зашумели ребята. − Айда!
Стёпка всех остановил.
− Куда? Нужно его с поличным захватить.
«Ух, Алфред, тяжко тебе придётся», − подумал я.
Целый день мы отработали на своём «Беларусе» − возили торф. А вечером все разошлись по садам караулить Алфреда. Мы со Стёпкой полезли к деду Улану.
Просидели до темноты.
Ночи у нас тихие − слышно, как брёвна потрескивают в стенах, остывая; как коровы жуют жвачку, а куры на шестах чешутся. Слышно, как далеко-далеко гудит паровоз, будто тонкой петлей стягивает сердце, и замирает оно от того крика. Я даже песни сочинять стал:
Вы, алфреды, гады,
Нет для вас пощады…
В этот вечер в садах было всё спокойно и в следующий тоже. Зато на третий вечер слышим, раздвигаются в плетне прутья и кто-то нас тихо кличет:
Мальчишка, Игорёк, совсем маленький, сын колхозного конюха, просунул голову в Уланов сад, шепчет:
− Эй!.. Бежим, я Алфреда углядел.
Мы через плетень, как козлы, − одним махом.
Игорёк бежит между нами. Шуршит что-то. Нам некогда слушать. Стёпка от нетерпения подхватил его на закорки. Пролезли мы через Игорьков двор к проулку. Игорёк доску в заборе отодвинул, показывает.
− Вот он, Алфред, глядите.
Нам в щёлку виден весь проулок. Луна светит. Возле плетня в тени притаился Алфред, стоит тихо. А сад-то… Стёпкин. Стёпка кулаки сжал.
− Выжидает, гадюка… Беги зови ребят.
Скоро в Игорьковом дворе собралась толпа. Стоим ждём, когда Алфред в сад полезет. Некоторые даже приговаривают:
− Ну полезай же ты, Алфред несчастный.
И вдруг через забор из сада кто-то спрыгнул.
Так и есть − она. Вытащила из-за пазухи яблоко и протянула Алфреду.
Алфред прислонился к плетню, жрёт яблоко и что-то шепчет Любке и хихикает.
И тут мы все сразу через забор, чуть им не на головы.
− Стойте, голубчики!
Алфред уронил яблоко, глазами туда, сюда. Мы стоим плотно − не удерёшь!
Стёпка взял Алфреда за горло.
− Ты у деда Улана яблоню сломал?..
Стёпка выругался и оглянулся на Любку, забормотал что-то: неловко ему стало за свою брань.
И я смотрю на Любку. В темноте все люди кажутся бледными. А Любкино лицо сейчас белее зубов. Платье у неё перетянуто пояском. За пазухой яблоки.
Стёпка ещё раз тряхнул Алфреда:
− Говори, ты у деда Улана яблоню потравил?
− Ничего я не знаю, − пробормотал Алфред. − Я не вор. Я не лазаю по садам!
Стёпка поднял руку, чтобы ударить. Алфред вцепился в его кулак.
− А за что ты меня хочешь бить? Ты Любку бей. Она к деду Улану лазала. И сюда тоже ведь она… − Алфред метнулся к Любке, рванул её за поясок.
Яблоки посыпались к Любкиным ногам, будто ветку тряхнули. Большие яблоки, отборные.
− Что же ты её не ударишь? − сказал Алфред. Он обвёл нас глазами, подмигивая и кривя рот. − Эй, вы, я знаю, почему он Любку не бьёт. Он…
− Эх… − Стёпка ударил, и Алфред ткнулся носом прямо в эти яблоки.
Я подошёл к Любке.
− Ты зачем на яблоню лазаешь? Ведь договаривались.
− А тебе что? − сказала она глухо. − Бейте…
Любка стояла не двигаясь, даже пояска не подняла.
Гурька подошёл к ней.
− Думаешь, любоваться тобой будем? Пришла пора…
И тут Стёпка бросился к Любке. Он побледнел сильнее, чем она, поднял кулаки, готовый подраться с нами.
− Ага, − поднимаясь с земли и вытирая лицо, проверещал Алфред. − Он влюблён в эту Любку! Ха-ха!..
Любка молчала, потом едва слышно произнесла:
− Пустите меня.
Мы расступились. Я поднял Любкины туфли (они лежали в траве у плетня), сунул их ей в руку. Она взяла и пошла по проулку. Мы смотрели ей вслед. Любка будто почувствовала это. Обернулась.
− Ребята… − Она прижала к лицу белые носочки, заплакала.
Мы словно очнулись.
− Бей гада! − крикнул Гурька.
Что было дальше, вы уже знаете.
Вот и вся история. Хочу только добавить: с тех пор нет в нашей деревне слова обиднее, чем «алфред».
Юный любитель литературы, мы твердо убеждены, в том, что тебе будет приятно читать сказку "Городок в табакерке" Одоевский В.Ф. и ты сможешь извлечь из нее урок и пользу. Конечно же идея превосходства добра над злом не нова, конечно же о ней написано множество книг, но каждый раз убеждаться в этом все равно приятно. Как очаровательно и проникновенно передавалась описание природы, мифических существ и быта народом из поколения в поколение. Прочитывая такие творения вечером, картины происходящего становятся более живыми и насыщенными, наполняясь новой гаммой красок и звуков. Просто и доступно, ни о чем и обо всем, поучительно и назидательно - все входит в основу и сюжет данного творения. Десятки, сотни лет отделяют нас от времени создания произведения, а проблематика и нравы людей остаются прежними, практически неизменными. Главный герой всегда побеждает не коварством и хитростью, а добротой, незлобием и любовью - это главнейшее качество детских персонажей. Сказка "Городок в табакерке" Одоевский В.Ф. читать бесплатно онлайн будет весело и деткам и их родителям, малыши будут рады хорошему окончанию, а мамы и папы - рады за малышей!
П
апенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», - сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, - и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.
- Что это за городок? - спросил Миша.
- Это городок Динь-Динь, - отвечал папенька и тронул пружинку…
И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям - не из другой ли комнаты? и к часам не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.
- Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!
- Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.
- Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…
- Право, мой друг, там и без тебя тесно.
- Да кто же там живёт?
- Кто там живёт? Там живут колокольчики.
С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки и валик, и колёса… Миша удивился: «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» - спрашивал Миша у папеньки.
А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?
Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
«Да отчего же, - подумал Миша, - папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».
- Извольте, с величайшею радостью!

С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
- Позвольте узнать, - сказал Миша, - с кем я имею честь говорить?
- Динь-динь-динь, - отвечал незнакомец, - я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.
Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды - чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
- Я вам очень благодарен за ваше приглашение, - сказал ему Миша, - но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, - там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.
- Динь-динь-динь! - отвечал мальчик. - Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.
Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.
- Отчего это? - спросил он своего проводника.
- Динь-динь-динь! - отвечал проводник, смеясь. - Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь - большое.
- Да, это правда, - отвечал Миша, - я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь рисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:
- Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?
- Уж у нас поговорка такая, - отвечал мальчик-колокольчик.
- Поговорка? - заметил Миша. - А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.
Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова.
Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.
- Нет, теперь уж меня не обманут, - сказал Миша. - Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.
- Ан вот и неправда, - отвечал провожатый, - колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.
Миша, в свою очередь, закусил язычок.
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.
- Весело вы живёте, - сказал им Миша, - век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.
- Динь-динь-динь! - закричали колокольчики. - Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы - ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.
- Да, - отвечал Миша, - вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься - всё не мило. Я долго не понимал; отчего это, а теперь понимаю.
- Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.
- Какие же дядьки? - спросил Миша.
- Дядьки-молоточки, - отвечали колокольчики, - уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
- Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!
- Какой это у вас надзиратель? - спросил Миша у колокольчиков.
- А это господин Валик, - зазвенели они, - предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.
Миша - к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.
Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:
- Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!
- Это я, - храбро отвечал Миша, - я - Миша…
- А что тебе надобно? - спросил надзиратель.
- Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…
- А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…
- Ну, многому же я научился в этом городке! - сказал про себя Миша. - Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! - думаю я. - Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.
Между тем Миша пошёл далее - и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернётся и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:
- Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?
- Зиц-зиц-зиц, - отвечала царевна. - Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.
Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком - и что же?
В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.
- Что во сне видел, Миша? - спросил папенька.
Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.
- Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? - спрашивал Миша. - Так это был сон?
- Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере что тебе приснилось!
- Да видите, папенька, - сказал Миша, протирая глазки, - мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… - Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.
- Ну, теперь вижу, - сказал папенька, - что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.